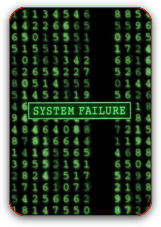 Когда палец показывает направление, смотреть нужно не на палец, а в указанном направлении. Это очевидно, если вы спрашиваете, как пройти в библиотеку, но когда встает вопрос о психологических инсайтах, почему-то основное внимание приковывает именно палец. Как будто, не изучив его анатомию и не рассмотрев все заусенцы на ногте, невозможно будет правильно определить, куда же именно он указывает.
Когда палец показывает направление, смотреть нужно не на палец, а в указанном направлении. Это очевидно, если вы спрашиваете, как пройти в библиотеку, но когда встает вопрос о психологических инсайтах, почему-то основное внимание приковывает именно палец. Как будто, не изучив его анатомию и не рассмотрев все заусенцы на ногте, невозможно будет правильно определить, куда же именно он указывает.
Так вот, не нужно делать из пальца фетиш. В какой-то мере, конечно, стоит призадуматься, о чем именно говорит какой-то конкретный указатель. В конце концов, даже направление пальца нужно еще распознать — увидеть человека, увидеть руку, увидеть кисть, увидеть палец и, наконец, понять, в какую сторону он показывает. Но с пальцем мы все эти операции проделываем мгновенно, а вот со словесными подсказками приходится помучиться.
В общем, как обычно, здесь есть две крайности — можно увязнуть в бесконечных интерпретациях, так и не сдвинувшись с места, а можно, не разобравшись в сути подсказки, двинуться в противоположном от цели направлении. Будьте осторожны.
Нельзя путать инструмент психологического исследования с целью данного исследования. Например, алкогольное опьянение можно использовать для того, чтобы разглядеть скрытые в трезвом состоянии аспекты своей личности, но если делать это бездумно, алкоголь остается просто алкоголем и вместо повышения осознанности приводит лишь к отупению и еще большей бессознательности.
Смысл не в том, чтобы напиться и ловить глюки, а в том, чтобы, находясь в измененном состоянии сознания, не потерять голову, не утратить фокус внимания и успеть рассмотреть себя и свое функционирование с новой точки зрения.
То же самое можно сказать и про медитацию. Если сводить ее к тому, чтобы провалиться в какое-то глубокое трансовое состояние и просто там побарахтаться, то это по своей практической ценности ничем не отличается от обычного алкогольного опьянения. Даже некоторое тоскливое утреннее похмелье можно будет проследить после завершения очередного медитативного трипа.
Но если медитативное состояние использовать как отправную точку для исследования вопросов, которые в трезвом состоянии кажутся слишком мутными, непонятными и противоречивыми, вот тогда будет смысл. И здесь он уже не в самой медитации, не в трансе, а в том, что именно удалось или не удалось с его помощью разглядеть. В зачет идут только сделанные или не сделанные наблюдения и выводы, а не сам факт успешного погружения в глубокую прострацию.
Тем, кто занимался разными медитативными практиками, предлагаемый прием, возможно, уже известен. Во всяком случае, тут нет ничего оригинального. Надо только ясно понять, для чего это делается и как этим инструментом воспользоваться на практике. В двух словах, смысл в том, чтобы научиться не думать свои мысли и таким образом хотя бы на время отвлечься от Матрицы.
[[Продолжение — красная таблетка]]
Можно сказать, что это один из способов остановки внутреннего диалога или — важное уточнение! — выхода за его пределы. Не думайте, однако, что отрешенность от собственных мыслей и есть цель. Нет, это та самая отправная точка, о которой только что шла речь. Отвлечься от собственных мыслей нужно для того, чтобы заново оглянуться вокруг и проверить, как обстоят дела на самом деле.
По этой же причине нет никакого смысла в том, чтобы месяцами или даже годами культивировать эту самую ментальную отрешенность. Это и будет бестолковым расшибанием лба в молитве. Чтобы увидеть то, что здесь можно и нужно увидеть, не требуется часами и днями пребывать вне своего внутреннего диалога. В действительности, достаточно одного мгновения, чтобы все увидеть, просто это мгновение такое тонкое и ускользающее, что может потребоваться тысяча попыток, чтобы все-таки успеть однажды на нем сфокусироваться.
В общем не превращайте предлагаемый прием в новую долгоиграющую практику, надеясь, что через год-другой она поможет вам что-то увидеть. Либо вы схватите идею и увидите все сразу, либо это потребует пару месяцев на наработку навыка и уточнение сути приема, но если и тогда ничего в мозгу не щелкнет, значит, метод не для вас или время еще не пришло. Усиливать усилия дальше смысла уже не будет.
Итак, вот основная идея. Посмотрите внимательно на то, как возникают мысли, и что они из себя представляют. Они могут быть чисто вербальными или нести в себе какой-то образ. Иногда они звучат громко и ясно, как собственный голос произносящий их про себя. А иногда они как будто бы безмолвны и скорее подразумевают некое вербальное умозаключение, чем действительно озвучивают ее «вслух». Может быть, есть еще какие-то варианты проявления мыслей, но это совершенно не важно.
Внимание надо обратить на водораздел между самим фактом возникновения мысли и ее содержанием. Вот этот момент принципиально важно понять и разглядеть — именно от этого различия мы будем отталкиваться дальше.
Возьмем известную картину про бурлаков на Волге. И давайте представим, что мы рассматриваем ее в музее, а не на экране монитора. Обратите внимание, что мы можем рассматривать картину с очень разных точек зрения. Например, мы могли бы рассмотреть, как она вписывается в интерьер помещения. Или мы могли бы уделить внимание раме, в которую она вставлена. Или же могли бы рассмотреть структуру холста, на котором она написана. Или можем основное внимание сосредоточить на технике письма. Или посмотрим на композицию и цветовое решение картины. Или же, наконец-то, можем погрузиться в ее сюжет — увидеть баржу, бурлаков, их страдания и пережить какие-то эмоции по этому поводу.
Но это мы так экспериментируем, а на практике, если мы не художники, не искусствоведы и не работники музея, то взглянув на картину мы первым делом считываем именно ее сюжет, погружаемся в него и совершенно не обращаем внимания на технику письма, композицию, цветовую гамму и прочие художественные тонкости. И если на картине изображено что-то для нас ужасное, мы автоматически ужасаемся и чувствуем отвращение. Если там что-то для нас приятное, мы автоматически расплываемся в улыбке и чувствуем тепло. Но в обоих случаях мы легко могли бы отвлечься, переключив внимание на холст, раму, интерьер музея и обнаружить, что вместе с переключением внимания исчезает всякая ужасность или приятность.
С определенной натяжкой можно сказать, что когда мы видим хорошо написанную картину, которая трогает нас за живое, мы на время засыпаем — с головой погружаемся в смысловое и эмоциональное содержание картины. Наше внимание так сильно прилипает к картине, что мы перестаем воспринимать что-либо еще вокруг. Мы как будто бы оказываемся внутри картины, совершенно забывая о том, что на самом деле стоим с разинутым ртом посреди музея. Но в случае картины и музея мы довольно легко пробуждаемся и вспоминаем, что это не мы тащим баржу вдоль берега и страдаем по этому поводу, а вот в случае собственных мыслей пробуждение от их содержания оказывается настолько нетривиальной задачей, что практически всю жизнь мы проводим уткнувшись в ментальный калейдоскоп, который бесконечным потоком поставляет все новые и новые сменяющие друг друга истории и сюжеты.
И вот здесь — пока мы спим внутри содержания собственных мыслей, переживаем их сюжет, как личную драму — мы абсолютно утрачиваем связь с реальностью. Настолько, что вообще забываем о том, что на самом деле мы стоим в музее или, если угодно, кинотеатре, и наблюдаем бесконечную картину жизни.
Но не пытайтесь здесь погрузиться в транс, словить глюк и обнаружить себя в музее. Это не сработает. Фокус не в том, чтобы каким-то хитрым образом вспомнить про музей, а в том, чтобы хотя бы на мгновение отлипнуть от сюжета собственных мыслей — тогда реальность сама напрыгнет на вас и в одно мгновение камня на камне не оставит от всех ментальных сюжетов разом.
Итак, весь смысл в том, чтобы переключить внимание с содержания мысли на факт ее возникновения. И вот это уже чисто технический прием. Ничего сложного. Просто обратите внимание, что всякая мысль в какой-то момент появляется. Вот ее не было, а вот она возникла, всплыла. Зафиксируйте этот факт — мысль появилась. Обратите внимание на ее содержание, но не проваливайтесь в него. Отметьте для себя, о чем эта мысль — о еде, о работе, о кошке, об ипотеке, о бессмысленности этой затеи, о том, что ничего не получится. Просто зафиксируйте общее направление мысли, но не развивайте его. Обратите внимание на эмоциональное содержание мысли. Какая она — тоскливая, радостная, горькая, злая? Обратите внимание на ее «композицию» — умная мысль, занудная, тревожная, обесценивающая. И так далее.
Задача в том, чтобы искусственно сместить фокус внимания с непосредственного содержания мысли на ее обрамление или просто на факт ее возникновения. В итоге при правильном выполнении упражнения ваше внимание будет приковано к новой вспомогательной линии внутреннего диалога, подробно и четко описывающей все происходящее на ментальном уровне. Звучать он будет примерно так: «Пришла умная мысль. Пришла мысль о работе. Мечтательная мысль о просветлении. Голодная мысль о еде. Страшная мысль о провале. Занудная мысль о смысле жизни.» Что-то примерно в таком вот духе.
Понаблюдайте за своими мыслями в таком вот режиме, набейте руку. В этом действительно нет ничего технически сложного. Для этого не требуется часами медитировать — достаточно просто помнить о том, что мысль, как картина в музее, — можно с головой погрузиться в ее сюжет, а можно остаться на поверхности и сохранить связь с реальностью.
Ничего другого на этом этапе делать не нужно — просто обнаружить эту всегда доступную возможность вырваться из сюжета одной отдельной мысли, которая занимает вас прямо сейчас. Не нужно пытаться не думать. Не нужно ждать, что мысли остановятся. Все дело исключительно в том, погружаетесь ли вы в сюжет каждой очередной возникающей мысли или просто фиксируете факт ее наличия с некоторого расстояния. Мысль остается и озвучивается или отсвечивается внутри как обычно, меняется только ваша фокусировка — вместо погружения в ее содержание, сухая констатация факта ее наличия.
Когда почувствуете некоторую уверенность в выполнении этого кульбита, проверьте свой новый навык на практике. Дождитесь, когда вас захватит какая-нибудь важная мысль или эмоция, и попробуйте из нее вынырнуть. Здесь должен ощущаться заметный контраст между тем, чтобы бултыхаться внутри сюжета, и тем, чтобы невовлеченно наблюдать его со стороны. Как только у вас это получится, вы обнаружите, что таким образом можно прекращать любые свои душевные терзания — из них ВСЕГДА можно просто вынырнуть, вместо того, чтобы бесконечно их мусолить и искать выход внутри сюжета. Настоящий выход всегда ВНЕ сюжета.
Сам по себе этот навык всплывания на поверхность из любого ментального или эмоционального состояния — это уже очень ценное в психологическом плане приобретение. Но суть все-таки не в нем. Использовать этот прием только для того, чтобы отбрыкиваться от своих болячек и тараканов — это ковыряние в носу хирургическим скальпелем, вместо того, чтобы вскрыть себе черепную коробку и одним махом вычистить из нее всю дурь.
Если на этом этапе все понятно, навык отработан и проверен в бою, остается только отточить его до необходимой остроты и использовать его по прямому назначению. Когда распознавание мыслей без включения в них налажено, тогда и приходит время для всех тех вопросов, которые предлагает исследовать дзэн и адвайта: что реально? кто я? как звучит хлопок одной ладонью? — и все прочие вопросы, цель которых направить внимание туда, куда оно у нормального человека никогда не попадает в силу зачарованности содержанием мыслей.
На все эти вопросы невозможно ответить изнутри мыслей. Нет смысла думать о том, что реально. Нет смысла размышлять о «я». Нет ни малейшего смысла философствовать о хлопке одной ладонью. Ответы на эти вопросы находятся не в сфере ума, не внутри мысленных сюжетов и построений, а строго за их пределами — для того эти вопросы и задаются, чтобы отлепить внимание от ходящего по замкнутому кругу ума. Все настоящие ответы находятся в сфере той реальности, которая разворачивается за пределами мыслей и их сюжета. Все ответы в музее, а не на картине, и чтобы их обнаружить, нужно перестать фиксироваться на мышлении и начать смотреть по сторонам.
Пока мы погружены в содержание своих мыслей, мы видим микро-сон и полностью доверяем его сюжету, потому что неспособны отличить сон от реальности. Но стоит нам хотя бы на время отвлечься от рассказываемой во сне истории, и нам тут же открывается совершенно иная перспектива — мы впервые осознанно наблюдаем то, что было до того, как мы «заснули», и что остается неизменным, пока мы «спим». И вот именно здесь обнаруживается удивительный контраст между тем, что есть, и тем, что рисуется интерпретирующим умом.
В качестве тренировки можно рассмотреть, как устроено восприятие собственного тела. Например, для любого нормального человека очевидно, что у него есть спина. Так? У вас есть спина? Но теперь посмотрите внимательнее. Вы видели когда-нибудь свою спину непосредственно? Или только в зеркале, которому вы поверили, что оно отражает реальность? Вы знаете, что у вас есть спина или просто глубоко в это верите? Что вам говорят ваши органы восприятия? Чувствуете ли вы спину? Или вы чувствуете какие-то неопределенные ощущения, которые по памяти идентифицируете и интерпретируете, как факт наличия спины? Видите ли вы здесь разницу между тем, что говорит вам о реальности спины ваше непосредственное восприятие и тем, что достраивается в уме и/или по памяти?
Это очень странные вопросы, но если вы посмотрите на эту задачу всерьез, то обнаружите весьма неожиданную штуку — ваше тело, такое родное и близкое, существует по большей части у вас в голове в виде устойчивой схемы, которая постоянно поддерживается и воспроизводится по памяти.
Закройте глаза и посмотрите в упор — ощущаете ли вы свою спину? Есть какие-то ощущения, да. Но написано ли на них, что это спина? Кажется, что эти ощущения локализованы в районе спины. Но действительно ли эта локализация считывается из самих ощущений или это уже результат интерпретации?
Выбросьте все свои привычные представления о теле из головы и посмотрите на свои ощущения непредвзято. Разве вы воспринимаете свое «тело»? Не будет ли точнее сказать, что вы все-таки воспринимаете набор аморфных и фрагментарных ощущений, из которых делаете вывод о наличии тела и его положении в пространстве? Найдите ощущение приписываемое лицу и ощущение интерпертируемое, как пальцы ног, — на каком расстоянии друг от друга находятся эти ощущения? Где-нибудь полтора метра в зависимости от роста и положения тела? Но откуда вы достали эту цифру? Есть ли какая-то информация о местоположении в самих ощущениях или она черпается только из памяти о схеме тела?
Смотрите внимательно. Здесь вам надо ясно увидеть разницу между фактическим восприятием и тем, что достраивается из него умом. В отношении тела у нас нет и никогда не было целостной картины. Наши глаза видят только какую-то часть тела — мы не можем увидеть тело целиком и одномоментно, а только фрагментарно и последовательно. И только из последовательности отдельных восприятий мы по памяти воссоздаем целостную картину собственного тела. Если же исследовать свое тело закрытыми глазами, то там вообще одна сплошная неопределенная мешанина разрозненных то возникающих, то исчезающих ощущений, из которых мы, однако, создаем устойчивую целостную картину.
А что бы случилось, если бы ваша память отказала? Что бы вы обнаружили, если бы посмотрели на все это непредвзято, не имея ни малейших представлений о том, что у вас есть человеческое тело? Что бы вы тогда увидели? Если бы нельзя было сослаться на готовый привычный ответ о собственном теле, обнаружили бы вы какое-нибудь тело? Или бы вы обнаружили именно то, что есть на самом деле — крайне фрагментарные, разрозненные и никак не локализованные в пространстве ощущения?
Рассмотрение этих вопросов — это второй тест на остроту восприятия и правильную выработку навыка отличать построения ума от реальности, не проваливаясь при этом внутрь этих построений. Если со схемой тела вам все понятно и вы ясно видите, что у вас нет возможности доказать наличие у себя физического тела, то можно приступить к рассмотрению какого-нибудь каверзного фундаментального вопроса. Например, что вообще реально?
Какова реальность до всяких мыслей?
Одного этого вопроса более чем достаточно, чтобы все увидеть и выскользнуть из Матрицы. Но если бы это было так уж просто, в Матрице бы давно никого не осталось. Сложность в том, что даже понимая общий принцип упражнения с выходом за пределы внутреннего диалога, очень трудно не застрять на промежуточном этапе, когда удается идентифицировать и не влипать в самые громкие мысли, но при этом абсолютно не замечать того, как микро-мысли или мысли-установки все-таки просачиваются и заражают сознание своим содержанием.
Например, исследуя вопрос о наличии у себя спины, мы легко обнаруживаем, что она все время достраивается умом и никогда не воспринимается непосредственно. То есть, проведя честный внимательный эксперимент мы будем вынуждены признать, что спина — штука сомнительная, существующая, в основном, в форме мысли, идеи или воспоминания. Ок, это важное открытие. Но в то же время мы здесь легко можем оставить без внимания более тонкие мысли и идеи — например, два оставшихся слова в предложении «У меня есть спина». «У меня» — это у кого? Что это за сущность? «Есть» — это как? Кто-то может чем-то владеть? Если мы подвергли сомнению факт наличия спины, то не будет ли логичным исследовать таким же образом идею о самом себе и о принадлежности спины этому самому «себе»?
И это опять вопросы не для ума, а для того, чтобы внимательно перепроверить, есть ли в реальности исследуемый объект или он является миражом, возникающим лишь в результате засыпания в собственные мысли. Ведь, в конечном счете, ответ на вопрос о реальности до всяких мыслей требует именно этого — ПОЛНОГО отсечения всех ментальных содержаний и установок, а не только тех, что сильнее всего бросаются в глаза. Самое «зло» скрывается как раз-таки в самых тонких мыслях, которые скорее подразумеваются между строк, чем отчетливо и осознанно думаются. Их вот и нужно разглядеть, идентифицировать и из них вынырнуть.
Поэтому, если вопрос о том, какова реальность до всяких мыслей о ней, не сбивает вас с ног и не открывает перед вами просторы холодного и мрачного мира, где людей используют, как батарейки чистой реальности, то это только потому, что какие-то тонкие мысли-установки все еще владеют вами, и вы все еще слепо предаетесь их очарованию. Тогда откатываемся назад и заново внимательно смотрим, где заканчивается непосредственное восприятие и начинается додумывание — где заканчивается реальность и начинаются мысли о ней.
1) Отбросьте все. Никаких мыслей. Никаких теорий.
2) Из этой точки посмотрите — что реально?
3) Если не видно, значит, не все отбросили — см. п. 1.
p. s.
Все эти эксперименты не имеют большого смысла, если вы все еще убеждены в правильности своей привычной картины мира. Чтобы увидеть проблеск реальности, нужно быть готовым допустить невозможное. И если у вас нет даже тени сомнения, что мир может быть устроен не совсем так, как вас учили в школе, то никакие фокусы и секретные тибетские техники вам не помогут — сопротивление будет слишком велико.
А проверить себя здесь очень легко. Можете вы допустить хотя бы вероятность того, что ваша повседневная жизнь — это сон? Можете ли вы признать, что не способны достоверно определить спите вы сейчас или нет? А если нет возможности отличить одно от другого, не может ли оказаться так, что вы видите не реальность, а только свою личную галлюцинацию? Готовы вы морально к такой перспективе?
Если эти вопросы кажутся вам полным бредом, вас можно поздравить — вы абсолютно нормальный здоровый человек. Одна только загвоздка: из Матрицы здоровые люди не выбираются — для этого надо, как минимум, слегка свихнуться…


Блин все Ок, но меня пугает слово “напрыгнет” :laugh:
Вышедший из матрицы может создавать ее сам
Я ни как не могу понять почему у меня нет возможности доказать наличие у меня физ. тела. Ведь для этого мне не обязательно ощущать своё тело или иметь какие-то разрозненные ощущения в теле и даже видеть его не обязательно. Достаточно того, что все остальные люди способны увидеть моё тело, потрогать его и подтвердить его наличие, так же я знаю что я человек, а следовательно должен обладать таким же телом как и остальные люди тела которых я могу увидеть и потрогать. И как после этого у меня может не быть физ. тела?
С остановкой внутреннего диалога, как ни странно, сложностей нет. Это действительно вопрос практики. Вынырнуть из душевных переживаний удается даже в минуты эмоиональной бури и требуется на это максимум минут 10, если буря сильная. С удивлением обнаружила, что я сейчас совсем мало думаю. Вернее, .мало разговариваю сама с собой и перебираю в уме как поступить в той или иной ситуации. Ответ приходит как-то сам собой, всплывает из ниоткуда. Случается это иногда по несколько раз за день. Каждый раз удивляюсь. А вот заглянуть дальше пока не получается. Где я застряла?
От этих упражнений возникает чувство, что я не сильно отличаюсь от, скажем… камня у дороги. Из-за этого немного пустовато, и возвращаюсь ещё поиграть в жизнь и в себя. Но если совсем запрятать это чувство, то жить как-то неудобно и страшно, помирать страшно. А если не прятать… то тоже страшно, но это не страшно. Я очень понятно объяснила, да :)
Когда-то баловалась таким упражнением: закрыть глаза, представить, будто только-только рождаешься и ничего ещё не знаешь об этом мире. Удаётся ухватить что-то новое, незаметное ранее, но есть минус – невозможно долго смотреть на мир, не называя увиденное словами. А когда ты рождаешься, слов на самом деле не знаешь :)
Единственная польза от таких упражнений, я думаю, это умение переключиться от своего пускай иллюзорного внешнего мира в наблюдательный мир и избавиться от назойливой мысли. В общем перестать париться и заморачиваться. Думаю иногда это ценный навык. А остальное про выход из матрицы и прочее это, думаю, даже опасное занятие. Так можно стать безмолвным и ужасно спокойным мизантропом. И вообще можно настолько переключиться во внутрений мир и замкнуться, что вернуться во внешний не будет возможности. Это меня немного отпугивает.
Когда пытаюсь фиксировать мысль, ее содержание, эмоциональную составляющую мысли – часто забываю саму мысль, она куда-то улетает.
Также заметил какой-то внутренний протест против данного упражнения, так и хочется в мысль именно провалиться.
Мотивация не поможет, мне не помогала во всяком случае, скорее помешает. Здесь вопрос не в том, куда собрался, а в том – откуда. И зачем вообще отсюда куда-то идти. Не думай, что разговор о чем-то мистическом, непостижимом или абстрактном. Нет ничего того, что ты не видишь прямо здесь и прямо сейчас, но есть то что не замечаешь. Когда мысль перестать заморачиваться о чем либо ради ничего перестанет хотя-бы немного казаться глупостью, тогда можно будет считать, что сдвинулся. А глюк – это просто глюк, не более, игра воображения. :)
Баланс нарушен. За “выход из Матрицы” на самом деле выдается вход в другую Матрицу. Есть у нас спина. И даже если точно доказать это невозможно, то косвенных доказательств “за” ЗНАЧИТЕЛЬНО больше и они сильнее, чем предположения “а вдруг ее нет”.
Другой пример, что реальней евклидова геометрия или геометрия Лобачевского? Лобачевский интересен, возможно даже полезен, как упражнение для мозга, но реальность евклидова в абсолютном большинстве случаев и по абсолютному большинству признаков, как не упражняйся.
Сатовский автолизис… Сатов сам застрял?
Спасибо за очередную интересную статью и как всегда интересный,насыщенный материал! Все описанное Вами читается и воспринимается легко,а вот что касается практики…,если будут результаты то поделюсь радостью,а они обязательно будут. Даже если нулевые)
Моя практика, практиковал еще будучи невротиком, мой мозг как-то сам додумался до этого, не помню как, но точно не из книжек. Итак:
Можно попробовать поиграть над мнением о предметах. В свое время я примерно так избавлялся от излишнего наворачивания своего мнения на все вокруг. Мне во всяком случае помогало. Итак, охарактеризовать полностью предмет, а затем отсекать от него наименее важные характеристики, шаг за шагом.
Например:
–— этап разрушения мнения —–
1) желанная красивая комфортная красная машина внедорожник элитной марки с кондиционером, автоматической коробкой передач и мощным двигателем
2) красивая комфортная красная машина внедорожник элитной марки
3) комфортная красная машина внедорожник элитной марки
4) комфортная машина внедорожник элитной марки
5) комфортная машина внедорожник
6) комфортная машина
7) машина
–— далее идет разрушение предвзятого (обдуманного) восприятия —–
8) предмет с 4 колесами, чтобы ездить
9) предмет с 4 колесами
10) предмет
Играть с мнением может вполне себе здоровый нормальный человек, но чтобы играть с восприятием, как написал Олег, нужно немного свихнуться.
Получилось с предметами, можно попробовать на людях или вообще на чем угодно, на себе в конце концов. Можно красочно себя охарактеризовать и начать отсекать от своего характера наименее важные детали. :) Не получается что-то отсечь во мнении, слишком важно? Почему? А что если?